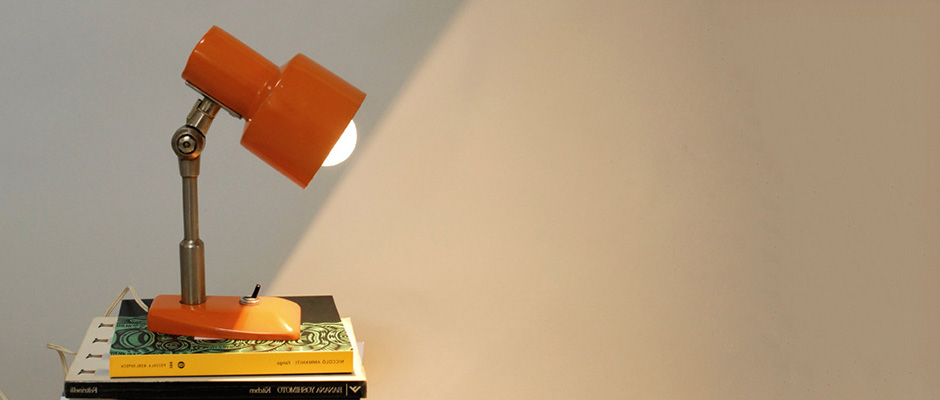Михаил Булгаков — один из любимейших у нас ныне авторов. И как же повезло ему на экранизации, которые появлялись в самые такие «судьбоносные», «поворотные» или хотя бы уж «знаковые» моменты недлинной истории новой нашей России! А это и странно вроде бы: Булгаков вовсе не оставил нам океана смыслов, он был писателем двух-трех тем. Ну что ж, значит, темы эти (из двух-трех даже, пускай, одна) сильно болят в нашем вчерашнем дне — и в сегодняшнем.
И сразу вспоминаются «Дни Турбиных» Владимира Басова (1976). С какой благодарностью восприняли мы тогда это лирическое кино! Главная (крамольная по тем временам) идея «Белой гвардии» — интеллигенция есть лучшая часть русской жизни — у Басова проводится просто в лоб, через череду благолепных образов при уютном мерцании камелька. Контуры жестокой эпохи гражданской войны едва (и то временами) угадываются за стёклами высоких окон необычно, парадно просторной квартиры семьи Турбиных. А советский первый зритель этих серий приобщался к иному, не канонически советскому, в непременных кожанках-буденовках, варианту отечественной истории. «И мы могли бы такими быть!» — думал растроганный телезритель. Собственно, фильм поставлен не по роману «Белая гвардия», а по пьесе, по знаменитым «Дням Турбинных», которые убеждали несколько поколений наших театральных завсегдатаев: всё образуется, нормальная жизнь была, она не сон, и, может, когда-нибудь возвратится…

А в 2011 году, накануне очередных выборов, вышел на экраны сериал Сергея Снежкина по собственно «Белой гвардии». В своей работе Снежкин, похоже, сознательно (и даже в ущерб своему детищу) спорит с басовским фильмом. У Снежкина с первых кадров гнездо Турбиных кажется разорённым муравейником, его сотрясают близкие взрывы, в нём мечутся потерянные и не слишком симпатичные люди. Снежкин выводит героев на улицу, показывая, что она, эта «улица», с ними делает, как топчет мужицкими сапожищами эти «цветы запоздалые». Бессмертные (по Басову) культура и человечность растекаются у Снежкина безвозвратно кровавыми лужами. Снежкин говорит нам не как хороша былая интеллигенция, а что делается с человеком в эпоху перемен.

Для этого сценаристам пришлось сильно дополнить канонический текст «Белой гвардии», вписав туда впечатляющие сами по себе, но «отсебятные» сцены в застенках у петлюровцев. И надо думать, свою функцию агитатора за порядок в год выборов сериал для кого-то выполнил.
А мне всё же больше по сердцу фильм Алексея Балабанова «Морфий» (2008), где тоже про ужасы сползания в смуту, но куда глубже и тоньше всё это сделано. Нет ничего удивительного в том, что трагический, беспощадный художник Балабанов обратился к самым мрачным страницам М. Булгакова — к его «Морфию», разбавив это автобиографическое для Булгакова зелье его же «Записками юного врача». В балабановском «Морфии» крах юного провинциального доктора связан с крушением прежней России — связан не в плане социально-историческом только, а в некоем символическом, прежде всего.
Главное и в этом фильме, и вообще в эстетике Балабанова — ДВИЖЕНИЕ. Камера настойчиво фиксирует перемещение тел в пространстве. Они, эти передвижения, не просто мотивируют сюжетные повороты. Я бы «красиво» назвал это «пульсацией пространства рока». Ибо все возможные варианты судьбы к началу фильма уже исчерпаны, время (это незримое пространство жизни, в котором ещё «возможны варианты») словно завершилось или упразднено. Остается только визуальное пространство, в котором не живут, а добирают отпущенное. Кажется, персонажи мечутся в узком проходе, но и траектория их метаний уже оформлена неумолимой судьбой. И режиссёр демонстрирует это нам с бестрепетностью прозектора.

Самое занятное для меня в «Морфии» — то, что о русском декадансе начала ХХ века говорит художник, близкий ему по смыслам, но совершенно иной стилевой природы. Декаданс для Балабанова здесь — не стиль, а смысл. В этом-то мироощущении и заключена принципиальная антигламурность художника Балабанова, ведь гламур, напротив, делает стиль, красоту залогом некоего бессмертия сущего, упраздняет красотой любую бесповоротность, умягчает трагедию демонстративно улыбающимся эстетством. Впрочем, сам Балабанов при более пристальном рассмотрении — режиссёр вполне в духе черноватого эстетства, полагающий эстетическим то, что таковым правоверный глупенький гламур считать не отваживается.
Кстати, постмодернистская ирония у Балабанова всегда представлена смело и широко (вспомним финал «Морфия»).
Другой экранный шедевр по Булгакову, пусть и не столь сложный по форме, но классически отточенный — «Собачье сердце» Владимира Бортко (1988) Как известно, своей повестью 1925 года Булгаков сказал очередное решительное «нет!» всяческим революционным экспериментам. Он был за естественный ход вещей, не учтя, однако ж, что этот «ход» подразумевает и скачкИ, увы, революционные… Создатели фильма проделали над зрителем эксперимент, похожий на изыскания Филиппа Филипповича Преображенского. Сперва ассоциируешь себя с шелудивым голодным псом, потом вдруг перепрыгиваешь в костюм состоятельного интеллигента, профессора, — и теперь зрительское сознание мерит всё его меркой, вроде бы здравой, но социально достаточно ограниченной. Без этих большевиков в «кожанах» во главе с карьеристом, демагогом и мелкой скотиной Швондером (блестяще сыгранным Р. Карцевым) мир представляется вполне гармоничным. Почему они вдруг явились и победили в нем, эти большевики?.. Ан, здесь на это и нет ответа!..

В конце 80-х нам и вправду был чужд, дик и смешон хам образца 1925 года. Мы ещё не познакомились тогда с «братками»-хамами образца 1995 года, — новыми как бы хозяевАми жизни. Н-да-с, уверен: теперь мы прочтём эту картину по-другому, найдем новые пласты смысла.
Ну, и в заключение несколько слов о самом «сакральном» произведении Булгакова — точнее, о двух экранных воплощениях «Мастера и Маргариты». Это фильм Юрия Кары 1994 года и ТВ-сериал Владимира Бортко 2005 года. Между версиями Кары и Бортко — десять каких-то лет, а словно сняты они в разных странах и вовсе не современниками!
Хотя В. Бортко и заявил, что «Мастер и Маргарита» — лучшее из им созданного, сериал встретили полупрохладно. Уж больно показался он чинным, с закосами в некоторую помпезность. Картинка оцифрована и вылизана, почему и сцена бала, и вся нечисть, и вся евангельская мистика отдают то знакомым-перезнакомым Голливудом, то почтенной балетной «вампукой». Бортко следует за Булгаковым почти постранично, но в этой своей старательности не проявляет гибкости перехода из плана в план. Современные игры с оцифровкой, цветом и компьютерной графикой мало что меняют по существу. А вот длинноватые монологи-диалоги героев (собственно, булгаковский текст) выявляют стертость, невыразительность языка. Актёрам просто не на что в них опереться. Сериал Бортко отлично показывает, как бы хотели видеть то время сейчас: собственно, стильную картинку, максимально облегченную от слишком неоднозначных смыслов. Или: этакий родной дедовский страх, который закончился навсегда. НО КТО БЫ ХОТЕЛ так видеть?..

Эх, освободись режиссёр от пут текста, ухни в импровизацию, — всё бы и заиграло! Вот, в конце уже фильма, что-то такое мелькает, — и как выразительно! Молча, без музыкального фона, идут кадры процессов 37-го года: напряженные лица, змеиная и одновременно затравленная улыбка на губах одной из «судёх», — и зрителю становится, наконец, сильно не по себе. Человек во френче (В. Гафт) разоблачает с трибуны банду Воланда как группу гипнотизёров-вредителей, попутно мелькают кадры хроники с аксакалами, чукчами, доярками и пограничниками, суеверно прильнувшими к радиоприемникам тех лет, — и зритель смеётся заданным ситуацией саркастическим смешком.

Да и вообще, мне кажется, стихия «Мастера» (романа) — это стихия свободной режиссёрской импровизации, стихия мюзикла, приключений звука и цвета (в данном случае, больше, чем слОва).
Вариант Ю. Кары Роман Виктюк пренебрежительно назвал «Мастером и Маргариной». Что ж, рядом с элегантно гламурной версией Бортко вариант Кары выглядит трешовым с этим ещё по-советски плывущим цветом, с этими убогими (но подлинными!) реалиями жизни 30-х, с азартно гротескующими актерами.
Но мне показалось, жизни и даже беспокойного булгаковского духа в картине Кары куда больше, чем в сериале В. Бортко. Дело не в том, что какие-то актёры у Кары переигрывают бортковскую команду (так, Мастер в исполнении Виктора Ракова у Кары изумительно живой — и насколько в сериале Бортко Александр Галибин деревянный!..). Дело не только в том, что антураж все-таки подлинней (кстати, Кара отказался от спецэффектов, которые так ученически скучно использует Бортко). При всём том, что монтажные ножницы круто прошлись по ленте Кары (из трёхчасового фильма «уделав» час с четвертью), сохранилась концептуальная целостность фильма! В конце концов, темная мистическая сила и впрямь здесь играет Москвой 30-х, как наперсточник спичечным коробком. Чертовщина уж точно — часть самой жизни у Кары, вплетена в неё как карающая сила и как уродство божьего замысла одновременно. И это так по-булгаковски!
Но ведь и Бортко по-своему верен и духу и тексту романа, его формальной, так сказать, логике. Являясь в Москву 1930-х, Воланд со свитой занимается делами вполне себе частными. Мир сталинской Москвы у Бортко герметичен, самодостаточен. Некие высшие (и подземные) силы, по сути, ничего существенного не определяют здесь, и все действия сатаны сводятся к мелким пакостям. Или, как пела Эдита Пьеха: «А город подумал — ученья идут…»
Это смысловое противоречие романа у Бортко пролегло широкой трещиной между плотью фильма и верой зрителя в подлинность созданного мира и его значимость для себя. А её-то, этой трещины, у Кары как раз и нет! Если с порога не отказаться от предложенной им игры, то в неё погружаешься, как в нечто целостное.
Тут уже каждый решает, что ближе ему: остроумно решенная вылизанная картинка или живой, пусть и шершавый, смысл.
Мне лично кажется, что настоящее — за сериалом В. Бортко, но прошлое и будущее — за фильмом Ю. Кары.
И за оба варианта Булгакову не было б слишком досадно…