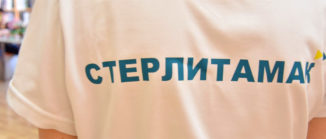9 апреля (22-го по старому стилю) апреля 2018 года исполнилось 110 лет со дня рождения классика отечественной научной фантастики, выдающегося учёного Ивана Антоновича Ефремова (1908—1972).
Иван Антонович Ефремов двулик. Или, вернее, в отечественной культуре существует как будто два Ефремова — столь сильную метаморфозу претерпела его писательская манера за несколько десятилетий творчества… Иной раз, читая Ефремова 1940-х, а затем открывая его же книгу 1970-х, с трудом веришь, что всё это создано одним автором.
Известность пришла к Ивану Антоновичу весьма быстро. Первый рассказ написан в 1942 году, первый авторский сборник — уже в 1944-м, а первый роман — в 1956-м. По меркам советского времени для литератора это поистине стремительная «карьера».
Его приняли — сразу и сразу поставили очень высоко.
Строгая логика, склонность видеть чётко выстроенную систему в художественном произведении — вот главные приметы ефремовского стиля. Профессиональный геолог и палеонтолог, доктор биологических наук, он принёс в изящную словесность поэзию дальних экспедиций, забытых окраин, где человека порой ожидает чудо открытия или неожиданная страшная гибель. Ефремов воспевал человека сильного, отважного, готового бороться хоть в одиночку с опасностями доселе запретных мест. Учёные только-только добираются до этих «незнаемых» земель и вод. Там можно встретиться с чудовищем, которое не вошло ни в одну из научных классификаций («Олгой-Хорхой»), и с тайной древнего искусства («Голец Подлунный»). Стоит ли открытие иска? О да!
«Я часто стоял по ночам у открытого окна. Ветер, пахнущий полынью, сухой и свежий, приветливо обвевал меня. Легкая степная темнота подчеркивала древнее безлюдье равнины», — у какого мальчишки не заноет под ложечкой, когда прочитает он эти слова из рассказа «Обсерватория Нур-и-Дешт»?
Рассказы «Бухта радужных струй», «Путями старых горняков» и «Ак-Мюн-гуз (Белый Рог)» — это настоящие стихотворения в прозе.
В «Белом Роге» современник автора повторяет подвиг, совершённый за много веков до него. Обстановка, в которой происходит действие, — древние горы, неспешный ход событий, отвага героя, драгоценный меч, добытый им с покорённой вершины, — всё придаёт рассказу оттенок легенды. «В поисках трещины геолог начал разрывать молотком тонкий слой щебня. Ветер выл всё сильнее, подхваченные им исколки щебня ударяли по лицу и рукам Усольцева. Молоток вдруг звякнул о металл, и этот тихий звук потряс геолога. Усольцев вытащил из-под щебня длинный тяжелый меч, золотая рукоять которого ярко заблестела. Истлевшие лохмотья развевались вокруг ножен. Усольцев оцепенел. Образ воина — победителя Белого Рога из народной легенды — встал перед ним как живой. Тень прошлого, ощущение подлинного бессмертия достижений человека вначале ошеломили Усольцева. Немного спустя геолог почувствовал, как новые силы вливаются в его усталое тело. Будто здесь, на этой не доступной никому высоте, к нему обратился друг со словами ободрения. Усольцев накинул веревочную петлю на небольшой выступ белой породы. Осторожно поднял драгоценный меч, крепко привязал его за спину и, улыбаясь, положил на площадку свой геологический молоток… У основания отвесного фундамента Белого Рога геолог остановился, выбирая путь. Прямо на Усольцева, гонимое ветром, двигалось облако. В полете огромной белой массы, свободно висевшей в воздухе, было что-то неизъяснимо вольное, смелое. Страстная вера в свои силы овладела Усольцевым. Он подставил грудь ветру, широко раскинул руки и принялся быстро спускаться по склону, стоя, держа равновесие только с помощью ветра, в легкой радости полета. И ветер не обманул человека: с ревом и свистом он поддерживал его, а тот, переступая босыми ногами, пятная склон кровью, спускался все ниже. С бредовой невероятной легкостью Усольцев достиг узкого карниза, миновал и его. Тут ветер угас, задержанный выступом соседней вершины, и снова началась отчаянная борьба. Усольцев скользил по склону, раздирая тело, кроша ногти, переворачивался, задерживался, снова сползал. Сознание окружающего исчезло совсем, осталось только ощущение необходимости цепляться изо всех сил за каждый выступ каменной стены, судорожно искать под собой ускользающие точки опоры, с жуткой обреченностью прижиматься к камню, борясь с отрывающей от горы, беспощадно тянущей вниз силой. Никогда позже Усольцев не мог вспомнить конец своего спуска с Белого Рога…»
Но поэтом, художником Ефремов был недолго. В его сочинениях возобладал философ, историк (автор исторических романов «На краю Ойкумены», «Таис Афинская»), а поэту пришлось отступить. Иван Антонович отдрейфовал из состояния «писатель» или, может быть, «литератор» в какое-то иное, где наука, художественная проза и философия перемешиваются в равных пропорциях. Он стал… как бы выразиться правильно?.. литературолософом.
В 1957 году журнал «Техника-молодёжи» публикует его роман-утопию «Туманность Андромеды». Это фантастическое сочинение похоже на учёный труд. Каждая глава романа похожа на раздел в монографии: здесь об искусстве будущего, здесь о космических полётах, здесь о том, какие сохранятся к тому времени преступления и как их научатся пресекать, а здесь — из чего будет состоять образование и воспитание детей… Во всей русской и советской литературе нет примера более масштабной и более фундаментальной утопии. Но утопия эта… холодновата, если не сказать прямо: холодна; в ней многое, почти всё, — от логики, эмоциям оставлено не столь уж много места.
Незадолго до смерти, в романе «Час Быка», Ефремов предложил новую утопию — значительно более тонкую, чем «Туманность Андромеды». В последнем произведении писателя сталкиваются два общества: служители света и приверженцы тьмы. Но конфликт между ними ничуть не похож на битву социализма и капитализма. Это вечное противостояние двух начал, прошедшее через всю историю человечества и унаследованное далёким будущим. «Час Быка» во многом опирается на восточные религиозные и философские традиции. Автор подробно выстроил этику, философию и весь образ жизни идеального человека — человека света.
Главный труд Ефремова — роман «Лезвие бритвы», над ним Иван Антонович работал около пяти лет (1959—1963), и в год завершения работы появилась первая его публикация. В нём, думается, мировидение и художественная манера зрелого Ефремова проявились в наибольшей мере.
Всё, что Ефремов создавал как писатель, привлекало внимание огромных читательских масс, оказывалось в фокусе общественного интереса. Но именно «Лезвие бритвы» вызвало настоящую бурю. Многие читатели, ознакомившись с текстом, увидели в авторе духовного наставника, своего рода «гуру». Сам Ефремов был этим недоволен, ему больше нравилось аналитическое, т.е. рациональное отношение к любимому произведению. Прошло много лет после выхода книги, и на склоне дней своих писатель всё ещё считал этот роман недопонятым…
Взявшись писать «Лезвие бритвы», Иван Антонович уже мог рассчитывать на колоссальный читательский запрос: за его спиной к тому времени были «Звёздные корабли», «Туманность Андромеды», циклы рассказов и повестей. Ефремов завоевал огромную известность как фантаст и заслужил значительный авторитет как учёный. То, что вышло из-под его пера, было одновременно и фантастикой… и не фантастикой. Имело научную основу… но не особенно близкую к традиционной науке. Более того, «Лезвие бритвы» оказалось ещё и литературой, которая… не вполне литература. Это один из самых загадочных текстов советского времени, произведение, идущее поперёк всех стандартов и форматов, даже конфликтующее с понятием «роман» — как его видели тогда, полстолетия назад.
Ефремову требовалась большая смелость и ещё большая уверенность в собственной правоте, чтобы написать такую вещь. И, действительно, его книга погрузила тысячи и тысячи читателей в шок… но шок вызвал, скорее, притяжение, нежели отталкивание. У Ефремова родился роман-экзот, существо, как ни парадоксально, одновременно уродливое и по-своему красивое.
Когда-то, в эпоху оттепели, роман громыхнул. На протяжении всего советского периода он притягивал к себе внимание читателей и высоко котировался на «чёрном рынке». Автор этих строк очень хорошо помнит, сколь трудно было достать «Лезвие бритвы» — хоть за самые безумные деньги. А украсть эту книгу из библиотеки не представлялось возможным, поскольку из большинства библиотек «Лезвие бритвы» украли задолго до того, как у тебя впервые появлялась такая мысль…
В 1971 году Ефремов писал: «“Лезвие бритвы” и по сие время считается высоколобыми критиками моей творческой неудачей. А я ценю этот роман выше всех своих (или люблю его больше). Публика уже его оценила — 30—40 руб. на черном рынке, как Библия. Все дело в том, что в приключенческую рамку пришлось оправить апокриф — вещи, о которых не принято было у нас говорить, а при Сталине просто — 10 лет в Сибирь: о йоге, о духовном могуществе человека, о самовоспитании — все это также впервые явилось в нашей литературе, в результате чего появились легенды, что я якобы посвященный йог, проведший сколько-то лет в Тибете и Индии, мудрец, вскрывающий тайны… До сих пор издательства относятся к “Лезвию” c непобедимой осторожностью, и эта книга пока еще не стала пройденным этапом, как все остальные, хотя о йоге печатаются статьи, снимаются фильмы, а психология прочно входит в бытие общества, пусть не теми темпами, как это было бы надо».
Фантастический элемент, позволяющий включить «Лезвие бритвы» в поле научной фантастики (НФ), присутствует, но он незначителен. Речь идёт о находке на дне морском древнего венца, принадлежавшего когда-то Александру Македонскому, который добыл его в одном из древнейших городов Индии. Этот венец способен влиять на психику человека, и при неблагоприятном стечении обстоятельств он отбирает значительный фрагмент памяти. Ещё в романе есть сцены, когда современный учёный с помощью биохимических коктейлей (много разного плюс немного ЛСД) оживляет «генетическую память». Ну, и несколько картинок, демонстрирующих возможности гипноза: исцеление тяжело больного, победа одного мастера внушения в дуэли с другим мастером, перевоспитание врача-садиста… Вот, собственно, и всё. Фантастическое допущение разбросано скудными вкраплениями по всему тексту романа, оно оживляет его, тянет за собой читателя, ожидающего новых «чудес» и окончательной разгадки. Однако элемент фантастического играет в романе сугубо служебную, инструментальную роль, находится на втором плане.
Но и само полотно художественного повествования также не составляет смысла и наполнения книги. Персонажи знакомятся, влюбляются, время от времени с ними случаются незначительные приключения (спасение индийским художником Даярамом возлюбленной Тиллоттамы, открытие частной экспедицией итальянцев затонувшего флота Неарха у берегов Южной Америки и т.п.) Но и приключенческие фестончики, и романтические бантики, и даже блёсткая вышивка любовных отношений — всего лишь детали на платье, сшитом из суровой научной ткани.
«Туманность Андромеды» — роман, который в большей степени напоминает монографию, т.е. монографическое описание будущего Земли, каким видел его Ефремов. А вот «Лезвие бритвы» — роман-трактат, средоточие философии, публицистики, научных гипотез, идей, высказанных в виде наброска и самого краткого обоснования. «Час Быка», кстати, следует в кильватере «Лезвия бритвы», это литературный корабль того же типа — роман-трактат.
Тут всё «обслуживают» нескольких героев, в свою очередь, служащих устами Ивана Антоновича. Из них главное лицо — врач Гирин. Эти персонажи, и Гирин прежде всех прочих, дают книге основную «плоть», наполняют её главным смыслом. Они проделывают это двумя разными способами, служащими для достижения одной цели — популяризации ефремовских идей. Чаще всего Иван Антонович позволяет основным действующим лицам читать большие лекции, изредка прерываемые репликами оппонентов. Например, тот же Гирин в самом прямом смысле этих слов читает лекцию, по ходу которой представляет основным критерием красоты (в данном случае, красоты человеческого тела) биологическую целесообразность. Он же в других местах романа произносит монологи, например, о пользе психофизиологии, о язвах современной цивилизации и необходимости их уврачевания за счёт ускоренного развития знаний о психике человека или, скажем, о возможности проникнуть в «генетическую память» — «память поколений». Все эти монологи, по сути, те же лекции. Ефремов-учёный, как видно, не находил адекватной аудитории для публичных выступлений на подобные темы, и он сумел превратить роман в сборник непрочитанных лекций, скреплённых сюжетом, приключенческой составляющей и т.п. Если тема высказывания оказывалась слишком дискуссионной для подобного монологического выступления, Ефремов использовал очень древнюю, ещё к античной мысли восходящую конструкцию — сократический диалог. Такой диалог обычно происходит между истинным мудрецом, человеком, владеющим правильным взглядом на вещи, и его менее искушённым собеседником. Этот самый собеседник может спорить и даже сердиться, но философ обречён на победу в диспуте, во всяком случае именно в его словах читатель увидит истину. Иногда оппонентов может быть больше одного, но всё же носителем правильной позиции всегда является единственная персона. И диалоги действующих лиц весьма часто превращаются у Ивана Антоновича в восхождение от неправильной позиции к позиции более правильной или же в коррекцию не совсем правильной платформы в абсолютно истинную. Очень хорошо видна культура академической полемики, знакомая Ефремову по его профессиональной деятельности и буквально затопившая страницы романа – вплоть до самых бытовых, казалось бы, эпизодов.

Ефремов-учёный, или, вернее, мыслитель в более широком понимании, на страницах романа победил Ефремова-писателя. От той спокойной и задушевной манеры автора-рассказчика, которая звучит в небольших произведениях Ивана Антоновича, опубликованных в 40-х годах, не осталось ничего. А для современного читателя несколько десятков страниц очередной «лекции» или очередного «сократического диалога» — непривычно тяжёлое испытание.
В 90-х полыхнул «ефремовский ренессанс», а затем имя Ивана Антоновича и тексты его в подавляющем большинстве своём откочевали в область «культурной археологии». Иными словами, сделались частью мемориала советской культуре, утратив притягательность для массового читателя. Ефремов — классик нашей научной фантастики, но его сейчас читают очень мало. Поздний Ефремов слишком тяжёл в восприятии, слишком тягуч его язык…
Ефремов был «коммунаром». Он видел будущее России и всего мира в коммунизме. С его точки зрения, современная цивилизация, цивилизация больших городов, страдала чудовищными язвами и сильно исказила сущность человека, изначально здоровую. Другой роман Ивана Антоновича, «Час Быка», был посвящён её слабостям и её «искажающим факторам»; нет в этом романе ни пародии на капитализм, ни пародии на социализм; есть общий тупик мегаполисной культуры. Но если из «капиталистической модели» Ефремов не видел выхода в будущее, к исправлению, то модель социалистическая давала ему самые добрые надежды. Фантаст обернулся идеологом, притом весьма оригинальным, но труды его недолго оставались жизнеспособными.
«Лезвие бритвы» сообщает об этой части мировоззрения Ефремова совершенно однозначно. Словами одного из персонажей Иван Антонович говорит о необходимости веры в социализм, поскольку «…Другого пути у человечества нет — общество должно быть устроено как следует. Разумеется, социализм без обмана, настоящий, а не национализм и не фашизм». Но Ефремов подходил к коммунистическому маршруту в жизни человечества с романтическим пафосом. За бетонными коробками советской действительности он видел прекрасную картину отдалённого будущего. С его точки зрения, мощную струю новых смыслов и жизненной энергии «реальному социализму» обеспечила бы прививка восточных духовных учений. В частности, тантризма, йоги. Ефремова устроил бы индуистско-марксистский путь развития, странный сплав коммунизма и восточной эзотерики.
Однако советская действительность умерла, не успев превратиться в самостоятельную цивилизацию. «Сценарий» будущего, милый сердцу Ефремова, сгинул вместе с нею. Разнообразные восточные учения хлынули в нашу страну мутным потоком на рассвете 1990-х, были восприняты главным образом через поп-версии, весьма далёкие от ефремовского сложного письма, насыщенного дискуссиями и своего рода острыми «проповедями»; а те, кто освоил восточные учения позднее, всерьёз, уже в ашрамах и на разного рода углублённых семинарах, не читали Ефремова за ненадобностью: тот хотел выплавить из коммунизма и эзотерики самостоятельную философию, но востребованной оказалась именно эзотерика, коммунизм же, что в сплаве, что без оного, уходил безвозвратно. А мощная прослойка советской техфизматинтеллигенции, составившей ядро восторженных поклонников Ивана Антоновича, изрядно уменьшилась в размере. И в наши дни «Лезвие бритвы» представляет собой монумент на могиле давних надежд и упований, памятник несбывшемуся сценарию.
Но уж во всяком случае Ефремов оказал огромное влияние на всю последующую русскую фантастику. Его имя многие в сообществе фантастов до сих пор произносят с трепетом.
Помимо текстов Ефремова, до наших дней дошло ещё одно его наследие — «ефремовская школа». Много было споров вокруг того, кто был истинным последователем Ивана Антоновича, а кто «примазался» к его громкому имени. Из советского времени чаще всего называют рано умершего Вячеслава Назарова, а из нынешних авторов — здравствующего и активно публикующегося Дмитрия Федотова. Фирменный стиль школы — соединение твёрдой науки с размышлением о судьбах всемирного социума и с элементами всё той же восточной эзотерики: слова «стихия», «энергия» и какое-нибудь «состояние самадхи» для истинного ефремовца — органика.
С 1988 года в Екатеринбурге вручается Премия им. И.А. Ефремова, в 2004 году международный Совет по фантастической и приключенческой литературе и Союз писателей России учредили Литературную премию имени И.А. Ефремова.
Ефремова помнят, хотя читают мало.
Ефремова пока ещё помнят…
И вот вопрос вопросов: да, конечно, Иван Антонович — учёный муж, обретавшийся на весьма высоком уровне научного социума (доктор биологических наук, профессор, орденоносец), его не могло не тянуть и тянуло, разумеется, на философию, на высокоумное теоретизирование, отсюда смена творческого стиля, но… останься он прежде всего художником, как знать, не пользовалось бы его творчество большим спросом у наших современников? Ныне то, что от него осталось, напоминает музейный скелет бронтозавра, меж рёбер которого бродит красивый кот сибирской породы.