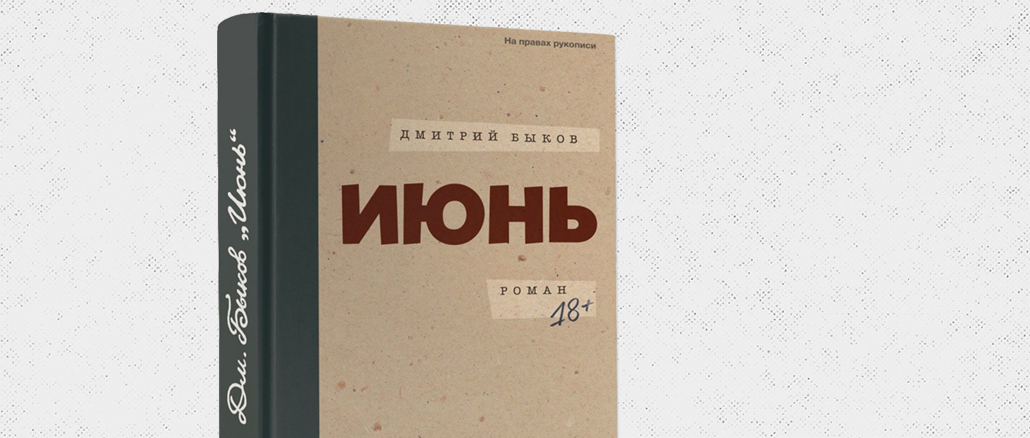
Перед нами роман-«игра» от Дмитрия Быкова, или «неисторический роман о прошлом» — от него же. «Игру» в «Июне» (М.: АСТ; Ред. Елены Шубиной, 2018) автор ведёт с читателем аккуратно, но открывая её правила лишь под занавес. «Неисторический» роман потому, что, хотя действие и разворачивается в конце 1930-х — начале 1940-х гг., в фокусе внимания — время наше, общественные настроения сегодняшнего дня. И уж так устроен Дмитрий Львович, что и в эссе, и в романном полотне он тенденцию преобразует в концепцию, туго-натуго, как корсетом, стягивая ею «материал». (Сказывается навык поэта дисциплинировать текст ритмом и рифмой, которые порой большие диктаторы, чем сам смысл?.. Ну, и быть всегда на плаву, всегда актуальным — это тоже ведь важно!)
В романе три части и эпилог. Их размер полностью укладывается в правила предлагаемой нам «игры». Правда, для того чтобы она и впрямь заиграла всеми красками, надобно учитывать и более тонкие моменты вроде количества и «качества» гласных и согласных, их чередования, а также количества и конфигурации абзацев и т. д., — что и сам автор на 500 страницах не соблюдает, наверное.
Первая, самая обширная, часть посвящена истории студента ИФЛИ Миши Гвирцмана и его отношениям с двумя девушками — фееподобной Лией и чувственной простонародной стервой Валей Крапивиной. Из-за Вали Мишу выгнали (временно) из ИФЛИ — причём сам повод к изгнанию (робко приставал на студенческой вечеринке) выглядит не очень правдоподобным.
Быков довольно пунктирно передаёт приметы времени (чтобы вдруг не подумали, что роман «исторический»?), но безжалостно развеивает миф об ИФЛИ как о «Лицее» сталинских времён — миф, который бродит в сознании наших гуманитариев, благодаря, прежде всего, ностальгическому «Подстрочнику» Л.З. Лунгиной. Зашуганные преподы и жлобастые (всяк на свой манер) студиозусы, но уж никак не Лицей! Впрочем, и сам поэт Миша — тот ещё фрукт: надменный и неприятный субъект, которого автор, по его же признанию, щедро одарил некоторыми не самыми лучшими своими чертами. Миша никак не годится в герои времени и романа, ибо слишком необаятелен — хотя бы и отрицательным обаянием. Зато в нём с избытком присутствует пахучая «человечинка», некая подлинность. Он вкупе с его двумя дамами, мне кажется, самые живые персонажи «Июня».
Вторая часть может вызвать возмущение бдительных наших «цветаевок» и «цветаевцев», ибо автор слишком вольно перелопачивает факты биографии М.И. Цветаевой и её близких — причём, факты трагические. Главный герой здесь — успешный журналист и подневольный стукач НКВД Борис Гордон. Волей автора он становится… без пяти минут мужем вернувшейся из эмиграции Ариадны Эфрон. Борис Гордон — образ собирательный, в нём переплетены черты Самуила Гуревича (которого Ариадна Эфрон действительно называла своим мужем) и близкого семье Цветаевых знакомого Ариадне ещё по Парижу Иосифа Гордона, который стал мужем близкой её подруги.
Быков не щадит цветаевскую семью: всяк в ней со своей душевной трещиной, как, кстати, и сложносоставленный из прототипов Гордон. Но таков замысел романа: перед нами, по мысли Быкова, «люди модерна», духовная элита эпохи, запутавшаяся в своих сложностях и «лжах» ничуть не меньше, чем скромные обыватели первой части. «Столько гнилья и плесени обнаружилось и наросло, в том числе в недавних гражданах нового мира, что выжечь всё это мог только всемирный огонь; в огне кое-что могло уцелеть, а в болоте перегнило бы всё».
Скажу честно, очень спорна, слишком «авторска» быковская концепция, разделяющая «людей модерна» (модерном он называет здесь специфическое мировоззрение первопроходцев духа конца XIX — первой половины XX вв., увлекшее тогда массу народа на путь социальных экспериментов) и людей постмодерна, им идеологически противостоящих.
Третья часть «Июня» — история некоего Крастышевского, который якобы нашёл способ через слово написанное управлять психикой читателя. И вот он пытается остановить надвигающуюся войну, зомбируя сознание самого Сталина (вождю регулярно кладут на стол докладные Крастышевского об успехах советского кино за рубежом). Здесь Быков вовсю играет с духом эпохи модерна (точней всё-таки модернизма), которая свела к бездушному (безбожному?) набору технологий все проявления жизни: политику, искусство, любовь. И вот, по Быкову, наступает возмездие: реакционные почвенные, хтонические силы постмодерна в лице Сталина и его камарильи неуклонно ведут мир к военной катастрофе — как и другая чёрная сила всё того ж в быковском понимании постмодерна — гитлеровский режим. «Война отмывала, переводила в разряд подвига что угодно — и глупость, и подлость, и кровожадность… И потому все они, ничего не умеющие, страстно мечтали о войне — истинной катастрофе для тех, кто знал и любил своё дело. Но у тех-то, у неумеющих, никакого дела не было. Они делали чужое, и потому в них копилась злоба, а единственным выходом для злобы была война».
Нет нужды доказывать, что автор очень уж вольничает здесь с терминами, а также спрямляет логику событий тех лет — но и не о тех годах вовсе он говорит!..
Не о том его боль, хотя «пепел Клааса» (память о надвигавшемся тогда холокосте) стучит в его сердце весьма явственно. Приписав к постмодернистам Гитлера и Сталина, Быков постоянно проводит мысль о сходстве ситуаций тогда и теперь, о том, что и мы живём в, возможно, предвоенное время, безответственно копя «лжи» личные и общественные. Чем и доводим дело до точки трагической неизбежности очищения через пламя войны…
Что ж, суммируя первое впечатление от столь разносоставленного текста, ловишь себя на том, что и впечатление-то неоднородно. Первая часть погружает вас в приятно обихоженный, вполне даже уютный и полнокровный романный мирок; вторая интригует и будоражит квазидокуменатилизмом (впрочем, не насыщая); третья утомляет своей надуманной, вымученной «магистикой». Здесь автор в пятый (если не в десятый) раз повторяет мысль о «людях модерна» и «постмодерна», о том, что только война могла ТОГДА разрубить гордиев узел накопившихся отнюдь не только социально-политических противоречий. Меняя по ходу повествования «ноги» (а в третьей части путешествуя на одной левой руке), автор добивается того, что его роман постепенно утрачивает кондиции художественного произведения, преобразуясь в текст вполне публицистический и аж «интерактивный» — но у игры, как и у почти неприкрытой публицистики, другие законы функционирования, другие сцепки с сознанием читателя! В любом случае, сопротивляешься навязываемой концепции — то ли потому что она пугающе близка протекающему во все щели сегодня, то ли наше сознание подозревает автора в насилии над собой и над более сложной реальностью — над реальностью той, прежней, и над нашей нынешней. Ситуации 1940-го и 2014-2017 гг., может, в чём-то и схожи, но на то постмодернизм и постмодернизм в самом употребимом (всё-таки) значении этого термина, что он успешней пугает, чем убивает; скорее он «фейкует», чем блефует. В любом случае, корсет тревожной быковской концепции как-то уж чересчур душит и режет — и не только сам текст.
Впрочем, случилось главное: роман не оставляет равнодушным. Умная, хитрая, тонкая игра здесь затеяна автором — и не без задней, конечно, мысли.



