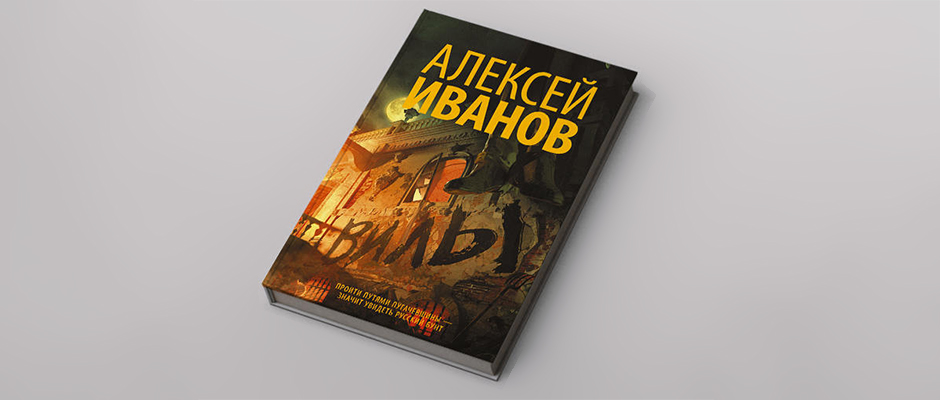
Явившийся читателю аккурат накануне выборов в начале осени увесистый том имел все амбиции быть острым, «на злобу дня». Но выборы прошли тише некуда, и «Вилы» впились в бок критики почти критикой не замеченными. В вялых отзывах на очередной этот эксперимент Алексея Иванова в жанре нон-фикшн довольно упорно звучал упрёк: чё он так много о башкирцах каких-то и прочих материях экзотических? Виной тому не только лежебокость нашей критики («мы ленивы и нелюбопытны»), но и свойства самой книги.
А получилась она, ну, прямо скажем, довольно размазанной. Автор претендует на твёрдо проводимую концептуальность, однако периодически забывает об этом, увлекаясь яркими (и впрямь впечатляющими) метафорами и деталями. К тому же и «концепция» выглядит порой насилующей самое себя.
Ну, например, утверждает автор: пугачевский бунт есть месть народа элите за утраченную ею (элитой, дворянством) «чести», то есть, неспособность служить общему благу отечества. Звучит заманчиво-злободневно, да только для наших дней. Бесконечные примеры, приводимые самим Ивановым из «осьмнадцатого столетия», говорят как раз об обратном. Полунищие капитаны провинциальных крепостей проявляли изумительное мужество и упорство, верность присяге (даже нередко солдаты — простые бывшие деревенские мужики), а полководцы царицыны были вполне искусны. И вообще, «Береги честь смолоду» — этот эпиграф из «Капитанской дочки» применим к большинству представителей «элиты» или полуэлиты, или недо-, но все же элиты (сравнительно), о которых Иванов пишет со смаком большой увлеченности.
Не обходит он и собственно тему пушкинского романа. Любознательный «широкий читатель» узнаёт, что некий Михаил Шванвич — не только прототип негодяя Швабрина, но и Петруши Гринева, причём судьба и самый характер прототипа куда занятнее и сложней обоих литературных героев, вместе взятых. (Кстати, узнает читатель и о том, что отец Шванвича был непосредственным убийцей Петра III).
Таких вот вкусных деталей и уточнений (смысловых утончений) у Иванова много по книге рассыпано. Пожалуй, именно они составляют главный интерес его произведения, эссеистичного по духу. Что ж до концепции, то её звенья для гуманитария вовсе не представляют тайны или открытия, а порой и спорными кажутся. Главная мысль автора: всяк боролся в месиве пугачевского бунта за свою идентичность (систему ценностей). Идентичностей этих было немало, что и обеспечило в итоге разброд в стане восставших. «Крестьянам нужна власть и собственность, казакам равенство и справедливость, рабочим труд и дело, инородцам вера и традиции», — пишет Иванов. «Маркиз Пугачев» (смущённое выражение Екатерины в письме к Вольтеру) предложил народу общую ценность — свободу. И проиграл. В итоге побеждает идея империи, в которой ценности по идентичности всегда важнее свободы. Или, говоря иначе, идея империи и является главной ценностью, сверхидентичностью пестрейшего в плане всяких иных «идентичностей» ареала.
Стал-быть, не на ту лошадку Емельян Иваныч поставил, зато Алексей Викторыч (автор, если не поняли) выглядит вполне здесь себе имперцем. Впрочем, с поучающим перстом он и к трону бестрепетно обращается, аки Державин какой: «Страна превращается в улус Пугачева, когда у неё хватает пушек, но не хватает Пушкиных». Фраза красивая, но… Участь черкесов, подвергшихся геноциду во времена Тургенева и его мечтательных дачниц-барышень, в царствование Александра Освободителя — только хотя б одна эта подробность из нашей истории…
А впрочем, как можно без идеалов жить?!.. Лично я — не могу, не умею, да и не стану, наверно! ДАЖЕ И НЕ ПРОСИТЕ! Живу вот с ними, и вам того же упорно, сердито советую. И коль скоро книжища Иванова есть контрацептив противу бунташных залетов нынешней публики, то самое ТО в ней — как раз для меня про «башкирцев» и прочих «киргиз-кайсацкыя орды». То есть про жизнь, быт, нравы и историческую судьбу глубинной России с её пестрым этнически Поволжьем, Уралом, Придоньем, Задоньем, Кавказом и другими нашими очаровательными Провансами. (Сибирь я не поминаю чисто из личного суеверия).
В романе «Золото Пармы» Иванов докопался в приуральской тайге аж до обильного сасанидского серебра и следов Аттилы. Здесь, в «Вилах», самое вкусное на мой лично вкус — рассказ о социальных и этнографических особенностях народов Урала и Поволжья, которые мы так плохо ведь знаем — из чего могут проистечь многие неурядицы, которые мы, в столицах, сочтём почему-то сюрпризами. Интересны и геополитические моменты в книге. Ну, например, кто бы мог подумать (кроме специалистов-историков), что интересы властителей Хивы и Бухары уже в XVIII веке активно простирались аж до Уральских пельменных гор! В общем, много нового и интересного узнает широкий читатель из «Вил» про общее наше отечество.
А вот реально кому не повезло в книге — так это образу самого Пугачёва. Его соратники обрисованы ярче, колоритнее вожака. Именно в обрисовке «маркиза» Пугачёва автор обуздывает свою склонность к красочной детали, стараясь сделать повествование предельно документализированным. Пушкинский Пугач — личность абсолютно магнетическая. У Иванова же он — да, и сметлив, и с широким кругозором товарищ (всё же в Европах повоевал), но нет какой-то изюминки, какой-то особенной закавыки в этом лице… Без яркого образа главного героя повествование тонет, как рыдван в бездорожье «русского бунта» — отнюдь, впрочем, не бессмысленного, по Иванову, зато непредсказуемого, как огонь внутри торфяника.
Алексей Иванов, прежде всего, художник — и художник склада Алексея Н. Толстого (по меткому замечанию Дмитрия Л. Быкова). То есть, сочная краска перешибёт для него заданность всякой концепции, и поперек этой концепции влюбленный в краски жизни автор наотмашь фигачит порой яркими, но ненужными «щас» его тенденции, неудобными подробностями. В этом и есть его стихийная честность, простодушие, милота человечья, в чём-то даже и детский грех ослушания… Но и непротивление злу насилием — это тоже ведь в чем-то «грех»… И он содержится в посыле Иванова (при всём авторском егозливом порой озорстве).
Короче, по жизни Алексей В. Иванов — во какой своевременный «умницо»!
А вообще, мне кажется, две идеи точат сего писателя. Первая: как это жить на Руси «лоху» — каково ему, типа, приходится? И вторая: как эта пёстрая-препёстрая Русь и тем паче Россия провинциальная, глубинная, с точки зрения столичного сноба заведомо лузерская, живёт, бродит своими соками, вспыхивает полугрозными сполохами — но, собака такая, не рассыпается?!
Тайна живучести страны и её народа (в социальном смысле уже) — вот та загадка, над которой бьётся ученик лихих 90-х и прочих современных годов Алексей Иванов.
Что ж, Бог ему в помощь!



