
Монография Сергея Бирюкова «Авангард и трансформпоэтика» (СПб.: Петрополис, 2024) — событие. Веха, одновременно являющая собой средоточие итогов и новую точку отсчёта, крепкую и широкую платформу-опору для последующих шагов, отталкиваний, прыжков и погружений в мир авангарда и авангардоведения.
КТО. Автор книги, о которой пойдёт речь, — Сергей Евгеньевич Бирюков (р. 1950), филолог, доктор культурологии, педагог, поэт, крупнейший исследователь, теоретик и практик русского и зарубежного авангарда.
Его монография, с одной стороны, — большой серьёзный труд, собранный из статей и материалов разных лет, с другой же — книга, в которой сильно личностное начало. Тем кажется она ценнее и весомее. В багаже Сергея Бирюкова многолетний и разнообразный опыт: исследовательский, педагогический, стихотворческий, исполнительский, читательский, зрительский, слушательский… Эта многомерность, владение широким научным и творческим инструментарием рождает то число точек приложения к предмету, ракурсов, которые можно наблюдать в его работах.
Сергей Бирюков обладает талантом говорить просто о сложном, рассказывать без-прикрас-красочно и иллюстративно, то есть так, что хочется открыть и самостоятельно прочесть/увидеть/услышать то, к чему он отсылает. Кругозор и академическая закалка позволяют Бирюкову видеть, устанавливать и делать зримыми для других множественные внутренние связи между фактами и явлениями. Его исследовательский пыл заразителен, как заразителен авторский восторг перед тем, что он как бы вновь открывает, обращаясь к нам, читателям.
ЧТО И КАК. Название книги «Авангард и трансформпоэтика» уже само по себе содержит и транслирует читателю динамику, процессуальность, непрерывность. Утверждает, что мы имеем дело с явлением живым и продолжающимся. Ведь авангардная поэтика — это поэтика трансформаций. Бирюков поддерживает этот тезис формулой литературоведа, историка русского модернизма, поэта Владимира Маркова: «Авангард строит перераспределением элементов». Именно трансформативная поэтика представляет собой ключевой принцип исторического авангарда, подразумевающий переразложение, переизобретение. Не раз автор подчёркивает, что разработка трансформпоэтики напрямую была сопряжена с лингвистическими прорывами, изучением внутренней формы слова, открытием фонемы и др. Это мощный лингвопоэтический процесс, о чём важно помнить. И авангард новой волны, всколыхнувшейся во второй половине XX века, усвоил и по-своему развил этот трансформационный принцип.
Само издание представляет собой объект с авангардным характером. Чтобы собрать такой массив материала, хоть и объединённого общим предметом изучения, но разножанрового (здесь собраны и статьи, и рецензии, и заметки, и мемуарные записки), тематически обширного и дробного, необходимо концептуальное видение, чёткое формальное решение. И автор нашёл такую концепцию. Бирюков препарирует и затем структурирует множество своих работ, вошедших в монографию, по принципу хранения файлов в компьютере. Посему в книге вы найдёте следующие разделы с текстами: три «Жёстких диска», «Рабочий стол 1» и «Рабочий стол 2», а также особую папку «Память». Обрамляет всё вступительное слово «От автора» и «Избранная библиография» в конце.
Сам исследователь поясняет такое формальное решение следующим образом (и как бы подсказывает способ ориентирования-прочтения, которое, к слову, может быть совсем не линейным!): «Если в разделы „Жёсткого диска” попали работы, определяющие стволовую проблематику книги, то в разделах „Рабочего стола” идут своего рода ответвления от основного ствола. И наконец, можно сказать, сердцевину этого виртуального дерева занимает раздел „Память”».
Основываясь на впечатлениях от знакомства с книгой, хочется уточнить и пояснить эффект, создаваемый данной «рубрикацией». Всё же не слишком прозрачная для моментального постижения структура раскрывается и обретает смысл в процессе чтения. Становится уловимой более глубокая логическая связь формы и содержания.
«Жёсткие диски», действительно, вмещают исследовательские работы Бирюкова, статьи, раскрывающие ключевые проблемы изучения авангарда и трансформпоэтики, результаты его кропотливой работы по изучению творчества конкретных авторов. Особое внимание — это лейтмотив монографии — автор уделяет проблеме описания собственно авангардных явлений. Здесь необходимо подчёркнуть, что под ними понимаются явления как философского, идеологического, социального планов, так и сферы искусства в целом (не только литературы, но и живописи-графики, прикладного творчества, архитектуры, театра и проч.). Например, утверждение беспредметности, разложение на мельчайшие элементы всего и вся, «квадратоинфицирование» и т.д.
В статьях на «Жёстких дисках», посвящённых анализу творчества конкретных авангардных авторов и проблемам изучения и интерпретации их наследия, Бирюков предлагает читателю портреты узнаваемых героев с по-новому расставленными акцентами, помогающими глубже проникнуть в природу их творчества. Герои знакомы (это и Велимир Хлебников, и Владимир Маяковский, и Сергей Третьяков, и Казимир Малевич, и др.), но вместе с тем встреча с ними на страницах этой книги происходит по-новому. С.Е. создаёт не варианты творческих биографий поэтов и художников, но наносит дополнительные важные штрихи к биографии творчества каждого. Статьи Бирюкова дополняют, освежают и актуализируют известное.
Если «Жёсткий диск» по ощущениям содержит уже некую вневременную информацию, то оба «Рабочих стола» — разделы, хранящие файлы, что будто вот-вот были в работе и остаются под рукой. Это рецензии — как довольно развёрнутые, так и совсем короткие отклики на книги, которые автор считает «важными для постижения авангарда», а также «вообще для художественной и общекультурной ситуации». «Рабочие столы» дышат в большей степени днём сегодняшним, т.е. литературными фактами современности, хотя через них автор восходит к общетеоретическим и практическим вопросам авангардного искусства и обращается к примерам разных лет. «Рабочий стол 2» представляет собой необычное приложение (и крайне полезное с библиографической точки зрения) — это весьма внушительное собрание уже совсем лаконичных откликов на книги, которые, по мнению исследователя, стоит иметь в виду, занимаясь вопросами трансформпоэтики в частности, а также истории литературы и культуры в целом.
Ещё немного о библиографических подарках читателю: книга пронизана содержательными (но не бесконечными!) списками литературы и ссылками на ключевые труды русских и зарубежных авторов, занимающихся вопросами авангарда.
Трогательно-архивный раздел «Память» вобрал заметки, воспоминания Сергея Бирюкова об учителях, друзьях и коллегах, учениках, с кем его объединяли не только тёплые человеческие отношения, но и смежные профессиональные интересы, творческие поиски, плодотворное общение, совместные начинания. Вот несколько героев этого раздела: Виктор Григорьев, Геннадий Айги, Ры Никонова и Сергей Сигей, Елена Кацюба и другие.
А ещё, благодаря этой книге и приведённым в ней уникальным воспоминаниям, читатель может «увидеть» то, чему уже нельзя стать свидетелем. Например, репетицию спектакля «Берегите ваши лица» в постановке Юрия Любимова и при участии Андрея Вознесенского, где Бирюкову довелось присутствовать и стать свидетелем «спектакля, невыпущенного к зрителю, однако созданного, сотворённого на наших глазо-ушах!»
О ЧЁМ. НАБЛЮДЕНИЯ. Прежде чем переходить к частностям, Бирюков вводит читателя в историко-культурный контекст существования авангардного искусства, предлагает краткую летопись «авангардоведения» в России и мире. Этому посвящена вводная статья «Авангард как традиция», связывающая авангард исторический, начала XX века, с неоавангардом второй половины этого столетия и начала XXI века (60-х–90-х–2000-х годов). Автор наглядно демонстрирует, что авангард — явление, имеющее за спиной внушительную традицию и притом развивающееся. Монография подчёркивает не обособленность авангардного искусства, а как раз-таки его включённость в единую магистраль культурного процесса и логику бытования, обусловленность экспериментальных поисков художников контекстом времени. Это подтверждает не искусственность самого явления, а его органичность, витальность авангардных поисков и трансформпоэтики как таковой.
Книга Бирюкова выполняет важную миссию: рассказывает о явлении, органично существующем в широком культурном поле, отечественном и мировом, не обособленно и закрыто, а именно в диалоге. Автор приводит сюжеты о том, как спорили и как разговаривали по душам новое и старое искусство. Читатель может встретить имена, которые мы будто бы не привыкли ассоциировать с авангардными практиками. Тем не менее они к ним были ближе, чем нам кажется. Исследователь рассказывает о том, кто из авторов не авангардного толка (кого будто бы сложно «заподозрить» в авангардистских симпатиях) прибегал к авангардной поэтике, использовал «авангардизмы», кто чутко интересовался трансформпоэтическими поисками и экспериментами, будучи сам творчески далёк от такой поэтики. Автор знакомит читателя и с фигурами, которые стали связующим звеном между историческим авангардом и неоавангардом.
Что касается «летописи» изучения и возрождения интереса к авангардному искусству в академических и творческих кругах, то здесь отметим краткую хронику зарождения, образования и жизненного пути Академии Зауми, которую приводит Бирюков, а также скрупулёзно упоминает все ключевые, значимые события, проходившие на разных площадках и в разных городах. Вообще, монография полнится уникальными свидетельствами, фактами, воспоминаниями, комментариями, итогами различных мероприятий, начинаний, встреч, диалогов… Всё это часть большой истории, которая, к счастью, зафиксирована одним из двигателей её процессов.
Затрагивая социально-исторические реалии культурного и собственно литературного процессов, которые также многажды и разительно трансформировались на протяжении XX века и позднее, Бирюков подчёркивает важнейшую и принципиальную разницу между авангардом начала столетия и неоавангардом. В числе отличий он отмечает отсутствие каких-либо социальных претензий у неоавангардистов и их направленность сугубо на частную сферу чистого искусства. На уход от публичности (противопоставим этому перформативное начало и театральность авангарда исторического) и замкнутость.
Читателя может поразить, как много имён, текстов, артефактов, теоретических работ стало открываться и осмысляться чрезвычайно поздно, спустя даже не годы, а десятилетия.
Монография впечатляет «международным охватом» представленной в ней информации. В фокусе внимания исследователя прежде всего — русский авангард, однако читатель найдёт множество сюжетов, сопряжённых с зарубежным исследовательским и творческим опытом, так как Бирюков изучает предмет всеобъемлюще, неотрывно от общемировых процессов. Он обращается как к отечественным традициям и школам, так и к зарубежным, учитывая существующий диалог между ними.
При погружении в монографию возникает ощущение, что автор собрал под её обложкой своих соратников и друзей. Так живы портреты героев, так звучна и гармонична полифония голосов, которых подключает Бирюков к своему повествованию. Здесь, конечно, огромную роль играет тот факт, что автор был и есть лично знаком со впечатляющим кругом представителей авангарда (как с кругом литературным, артистическим, так и с кругом исследователей), с кем Бирюкову довелось быть современниками.
Тот факт, что в работе присутствуют фигуры не только самих авторов, но и их исследователей и, значит, проводников к читателю и зрителю сквозь время, ещё больше раздвигает её границы и повышает значимость. Монография собрала вместе целую плеяду героев, автор щедро делится с нами их заслугами, сознательно или нет, но определённо создавая если не саму хронику, то свод ценнейших материалов к истории исследования авангардного искусства.
Читатель проникает и в мир авангарда, и в мир Бирюкова — учёного и поэта, тонкого наблюдателя и смелого делателя, теоретика-искателя и практика. Ему открывается даже то, как менялись воззрения автора монографии на некоторые факты и явления с течением времени. Яркий пример можно найти в статье, посвящённой Алексею Николаевичу Чичерину (1889–1960), «А.Н. Чичерин: поэт звучарно-визуальный, или Что годится для знака поэзии».
Таким образом, не только авангард предстаёт в монографии как динамическое начало, но в движении нам явлен и сам автор-учёный, который вновь и вновь ставит вопросы и ищет на них ответы. Не боясь показать (но, кажется, и стремясь к этому), что яркое и многоцветное поле, в котором он трудится, заполнено белыми пятнами.
Нельзя не отметить равный интерес автора к прошлому, настоящему и будущему авангардной линии искусства. Все три временных модуса её бытования равно важны, взаимно вспомогательны по отношению друг к другу. И в контексте творческих процессов, и в исследовательском поле. Бирюков тонко и точно, с опорой на факты, анализирует и открывает наследие прошлых этапов авангардных поисков художников (и под «художниками» мы понимаем здесь творческое, гуманитарное сообщество как таковое: и литераторов, и собственно художников, и архитекторов, и философов…). Также исследователь внимательно следит за всем, что происходит в этом поле сегодня, и не просто следит — активно общается с авторами, коллегами-учёными, исследователями-энтузиастами, делает всё возможное, чтобы «подсвечивать» актуальные процессы, имена, инициативы, рефлексирует сам и вместе с ними над происходящим. Ну, и конечно, Бирюков смотрит в будущее: и как исследователь, и как поэт. Ставит важные вопросы, обозначает проблемные точки и области, которые ещё подлежат осмыслению и изучению, он не прогнозирует, но отмечает тенденции. Ведь авангард, в природе которого — находиться на острие времени, с занесённой ногой в новом шаге, — развёрнут плечами в будущее. И мечты о грядущем (через постижение давнего и пересоздание сегодняшнего), будетлянская направленность и неуёмный поиск творцов — это то, что вместе с корневой для авангарда открытостью к трансформациям рождает ещё одну важную черту — непрерывность авангардной традиции. Эти незамкнутость на «здесь и сейчас» и гибкость трансформпоэтики, впитывающей разные опыты, раздвигают границы авангардного искусства во времени и пространстве.
Красной нитью через всю монографию естественно проходит тема Традиции и Новаторства. Но не только в контексте творчества. Явно и подспудно звучит лейтмотив преемственности: в среде школ, сообществ, учителей и учеников.
Наряду с упоминаемыми лицами тех, кого автор может назвать своими старшими коллегами и учителями, он уделяет особое внимание и своим младшим коллегам, реальным студентам и ученикам-последователям. Монография Бирюкова — это ещё и свидетельство благодарности, знак уважения к профессиональному сообществу. Думается, сегодня, когда в социуме вновь активно поднимается тема наставничества, преемственности, передачи традиций, оплотом и реальным примером такого взаимодействия поколений всё ещё является университетская, академическая среда. К которой принадлежит Сергей Бирюков.
«Авангард и трансформпоэтика», помимо массы достоинств научного, просветительского, мемуарного характеров, представляет собой ещё и знак уважения и признательности предшественникам и соратникам-современникам, это и в каком-то смысле посвящение, памятные знаки тем, кто уже ушёл, и подбадривание, мотивация, подспорье для тех, кто продолжает свой творческий и научный путь сегодня.
Одним из героев Бирюкова (хочется сказать «важных, ключевых», но неважных и уж тем более «проходных» фигур в ней нет вовсе) стал Виктор Петрович Григорьев —непревзойдённый специалист по наследию Велимира Хлебникова, основатель и столп велимироведения.
В статье «Будетлянин (о В.П. Григорьеве)» Бирюков пишет в частности о том, как ещё до личного знакомства с Григорьевым прочёл его книгу «Грамматика идиостиля. В. Хлебников», вышедшую в 1983 году. И вот что рассказывает: «Эта книжка в бумажной зелёненькой обложке внешне ничем не отличалась от продукции издательства „Наука”, вполне нейтральный вид. Но внутри это была нейтронная бомба. Мир Хлебникова описывался с такой филологической оснащённостью, с такой проницающей мощью, что это сметало всё недоброжелательное отношение к будетлянину».
Думается, книга «Авангард и трансформпоэтика» обладает похожей силой и зарядом, масштабностью охвата и глубиной анализа материала (текстов, сюжетов, персоналий, периодов, конкретных дат и событий). Монография Бирюкова способна произвести столь же яркое впечатление на своего читателя, как на её автора некогда произвела неизгладимый эффект работа Григорьева. Она способна также «обезоружить» скептиков, видящих в авангарде лишь выпуклые «частные» случаи эксперимента примерно столетней давности. Способна также «вооружить» инструментарием и оптикой тех, кто искренне и всерьёз интересуется темой.
Мало кто способен взять нас за руку и провести в мир авангарда так, как это делает Сергей Бирюков. Он сам знает множество троп (и, пожалуй, сегодня он обладатель одной из самых подробных, уникальных дорожных «карт») и с радостью поможет всем сориентироваться «в таком странном разделе филологии и культурологии, как авангардоведение».
P.S. Между книгой Сергея Бирюкова — к слову, первой книгой о «„нестандартных” формах русской поэзии за четыре века» — «Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма» (М.: Наука, 1994) и изданием «Авангард и трансформпоэтика» (СПб.: Петрополис, 2024) расстояние ровно в 30 лет. Три десятилетия, наполненных исследовательской работой, событиями, открытиями, выступлениями, знакомствами, общением, научным и литературным творчеством и рядом знаковых книг, подытожены монографией автора. Впереди — следующий этап, интересная работа и новые свершения. Чего мы и пожелаем Сергею Бирюкову, президенту Международной Академии Зауми, в мае этого года отметившему 75-летний юбилей.

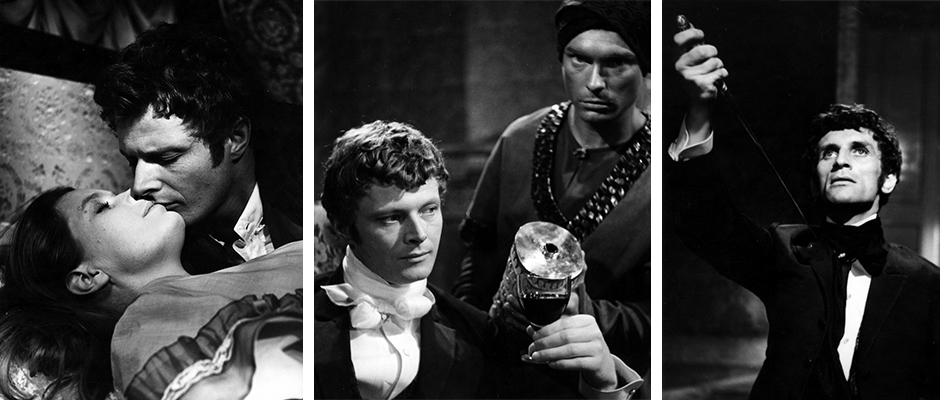


Оставьте первый комментарий