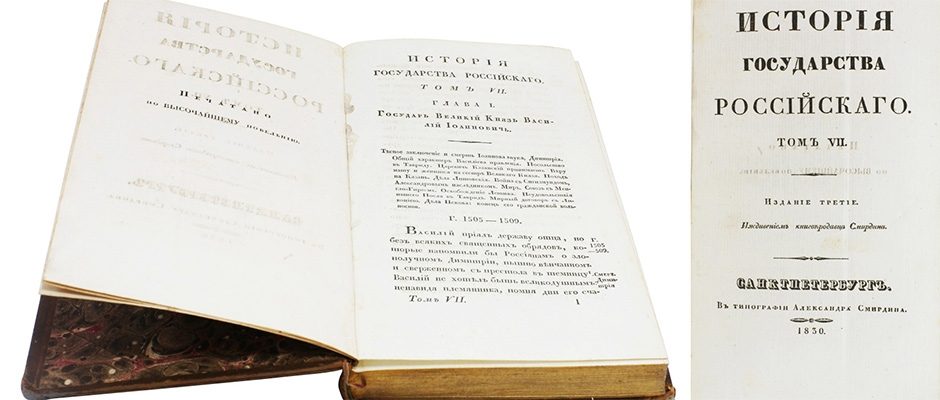Идея моих заметок проста — совершать увлекательные и познавательные путешествия по малоизвестным тропам литературной истории; подобно археологам, достающим с глубин океанских драгоценности затонувших в древности кораблей, мы попытаемся поднять на поверхность современности затонувшие пласты литературного и культурного наследия России и Европы.
Если обратиться к «Золотому ослу» Апулея, латинского писателя II века н. э., то это соседство (а вовсе не сравнение) — осла и поэта — не покажется странным. И в самом деле, преобразившись по прихоти Судьбы в осла, легкомысленный герой сей удивительной истории обретает, если не мудрость, то понимание человеческой природы (а также ослиной, скрывающейся под покровом человеческой) во всех её высоких и низких проявлениях.
Как он сам об этом говорит, вспоминая о своих ослиных приключениях: «Я искренно признаюсь, что величайшею благодарностию обязан я ослу, в виде которого находясь толь многия узнал приключения, кои, есть ли не сделали меня благоразумнее и не просветили моего разума, то, по крайней мере, дали мне понятие о многих и различных вещах» (IХ, 13).
Здесь мы цитирует «Золотого осла» в переводе Ермила Кострова (1755—1796), персонажа в высшей степени оригинального (о его чудачествах рассказывал даже Пушкин в «Table-Talk»), каких было, впрочем, немало в XVIII веке, происходивших из всех сословий, высоких и низких, вольных и невольных, но обладавших одной общей чертой: совмещать в себе вещи несовместимые. Этот рациональный век, вознамерившийся просветить все тайны и суеверия, тем не менее производил во множестве создателей замысловатых доктрин и причудливых мифологий, и в этом очень сходился с веком Апулея, картину которого писатель дает в своем романе, но через восприятие осла, который, как он сам говорит, «хотя был точной осел и превращен из Луция в скота; однако остались при мне чувствия и разум человеческой» (III, 26).
В этом состоит оригинальность романа Апулея, который, разумеется, стоит не на пустом месте, соединяя в себе самые различные элементы: от «Одиссеи» (ведь и Одиссей является в свой дом в другом образе, хотя и не осла) до «Осла» Лукия Патрского, которому приписывается первый литературный вариант превращения в осла. Однако достаточно простого сопоставления этих двух вариантов — Апулея и Лукия Патрского, — чтобы убедиться в фундаментальном различии одного от другого. Апулеев осёл — это осел размышляющий, рассуждающий, анализирующий и даже произносящий речи как истинный ритор, хотя его никто и не слышит, а не просто рассказывающий свое «смехотворное приключение», как у Лукия Патрского.
Совсем не случайно, что с самого своего выхода в печатном виде в 1469 году «Золотой осел» влечёт к себе не только профессиональных филологов, вроде Бероальдо, опубликовавшего в 1500 году подробнейший комментарий к роману Апулея, но также и переводчиков. В 1513 году печатается испанская версия «Золотого осла», с которой ближайшим образом связано появление первого плутовского романа «Жизнь Ласарильо из Тормеса». В 1566 году, два года после рождения Шекспира, выходит английский перевод. Рассказывая о внезапной любви царицы эльфов Титании к чудовищу с ослиной головой, в которого был превращен ткач Моток, поэт, без сомнения, вспоминал о любви знатной матроны к ослу, в которого превратился доверчивый герой романа Апулея.
Эти переводы на новые европейские языки (итальянский, испанский и французский), опубликованные в первой половине XVI века, стояли у истоков формирования европейского романа, который приобрел в немалой степени под их влиянием экспериментальный характер. Литературы, большие и малые, начинаются с переводов. Это относится не только к новым европейским литературам, но и к древним, в том числе латинской, которая началась с перевода «Одиссеи» на латынь греком Андроником (VI—V до н.э.). Этот и другие его переводы с греческого, а также собственные подражательные сочинения на латыни, как говорит Моммзен, художественных достоинств не имели, но были историческим событием: в них «таился зародыш всего позднейшего развития» латинской литературы.
Сходное значения имели переводы с греческого и латинского для создания новой русской литературы и языка по европейскому образцу. Здесь присоединились также французские влияния, что вполне естественно: XVIII век в культурном отношении был веком французским. Роман Лесажа «Хромой бес» (1707) явился образцом для неоконченной повести А. Чулкова «Пригожая повариха» (1770), которую незаслуженно называют первым русским романом. Собственно русского в этом калейдоскопе плутовских сценок ничего нет, не говоря о «достоинствах». В конце концов, сочинитель, запутавшись в своих выдумках, оставил свой рассказ, усыпанный к месту и не к месту расхожими пословицами, без окончания.
Первым русским романом (по своему глубинному переживанию темы судьбы и свободы, справедливости и несправедливости, правды и лжи), с которого в подлинном смысле начинается его история, был перевод Ермила Кострова «Золотого осла» Апулея, изданный в Москве в 1780—1781 гг.
С литературной стороны этот перевод захватывает своей необыкновенной живостью и картинностью. Специфический строй речи только увеличивает это его качество и очень скоро перестает восприниматься как устарелый, становится совершенно естественным. Вот к примеру удивление осла Луция по поводу нежностей, которыми осыпает его прекрасная матрона перед тем, как соединиться с ним в любовном объятии: «Тогда прекрасная вдова, сняв с себя платье и обнажив свои прелести, подошла ближе к огню и намазала тело свое благовонным бальсамом; потом не забыла и меня натереть сим ароматом. Уже она целует меня, и целует, как самая страстная любовница; называет меня всеми нежными именами: свет мой, душа моя, чижик мой и сизой голубок непрестанно из уст ея вылетали; я между тем удивлялся толь странному ея вкусу, и знал точно, что ослы никогда ни чижиками, ни голубями не бывали» (Х, 21).
Эта последняя фраза отсутствует в латинском тексте, но благодаря ей выходит наружу комико-абсурдистский элемент, который в оригинале содержится как бы сокрытый и себя не осознавший. Без преувеличения можно сказать, что «Золотой осел» в переводе Е. Кострова стал также первым русским экспериментальным романом, обнаружившим экспериментальную природу романа вообще. Собственно, это свое экспериментальное качество роман Апулея имел с самого начала, но осозналось оно вполне только через переводы на новые языки, в том числе и русский, который в эпоху Кострова всë еще пребывал в движении, искал своей универсальной формы, экспериментировал с литературными формами. И как раз благодаря своей экпериментальности русская литература сделалась в полном смысле европейской. В немалой степени этому своему качеству она обязана также скромному московскому бакалавру Ермилу Кострову и его переводу великого романа Апулея.