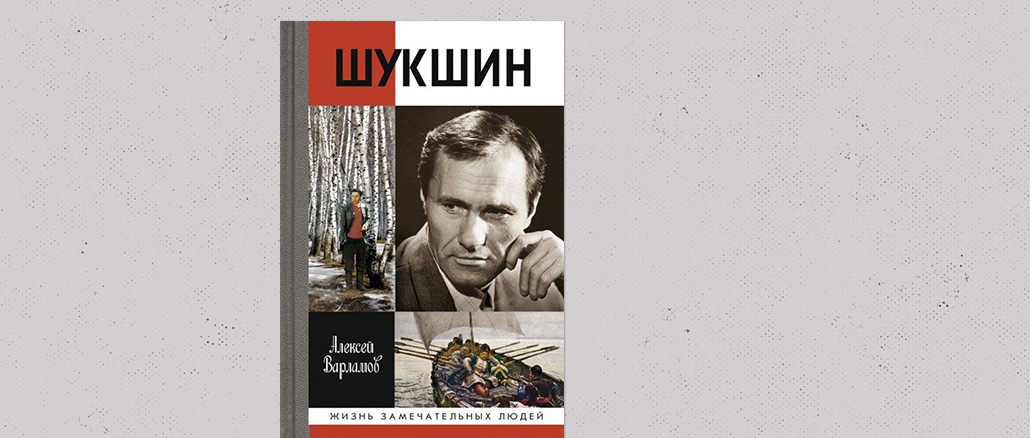
Писать о кумирах близкого ещё прошлого очень непросто. Во-первых, нужно проверить (измерить), насколько кумир актуален. Во-вторых, как-то обойтись с мифами, которые вокруг него понаросли и порой определяют его образ у нас, потомков. Скажу сразу: в целом автору ЖЗЛовской биографии «Шукшин» (М.: Молодая гвардия, 2015) Алексею Варламову это удалось, хотя герой достался ему ох и трудный.
В самом деле, с уходом советского (и тем более, колхозного) уклада испарился тот гумус, из которого росла фактура шукшинской прозы, её сюжеты, язык, проблематика, образы. Сейчас это для нас даже не «вчера», а «позавчера»: Шукшин для молодого читателя сегодня — дедушка и прадедушка. А, как известно, вечная мудрость жизни в том только (в конечном итоге) и состоит, что боль дедов и отцов становится маловнятным бременем для потомков. Сюжет биографии самого Шукшина тоже плоть от плоти «советского образа жизни». Короче, не пора ли в архив, Василий Макарович?
Однако разве устарели вот эти слова Шукшина: «Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи!.. Да при помощи чего же они правят нами? Остаётся одно объяснение — при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то и надо бить нашему искусству». Или вот эти: «Надо совершенно спокойно — без чванства и высокомерия — сказать: у России свой путь. Путь тяжкий, трагический, но не безысходный, в конце концов. Гордиться пока нечем». Или вот эти: «Уверуй, что всё было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания — не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни об этом. Будь человеком».
Три эти цитаты, каждая по-своему, злободневны. И в каждой — скорее вопрос к нашему текущему бытию, запрос на завтра, чем ответ. Каждая — как формула актуальной проблемы, увы.
Конечно, Алексей Варламов уделяет много места литературным баталиям 1960—1970-х гг. и шлейфу, который протянулся от них вплоть до 2000-х. Но в целом под его пером Шукшин выглядит человеком вполне современным, которого снедает главная проблема жизни (не только российской) уже XXI века: борьба гражданского общества (это в переводе на понятия наших, конечно, дней) и всегда несправедливого и равнодушного к отдельному человеку Левиафана государства (это в представлении Шукшина). Варламов спорит с З. Прилепиным, который делает из мятежных героев романиста и сценариста Шукшина — Разина и Пугачева — патерналистов и чуть ли не государственников. Дескать, «дай нам, государь-батюшка, с кровопивцами боярами да дворянами разобраться — и правь себе дальше спокойненько!».
Нет, отметает удобную подмену Прилепина автор книги: Шукшин по духу был, скорее, запоздалым крестьянским анархистом, отрицавшим государство как всегда угнетающее и паразитическое образование: «Всё, что происходило в России и с Россией в 20 веке, было для него, говоря словами Пришвина, войной между мужиками и большевиками, в которой Шукшин был однозначно на стороне мужиков, относясь к государству, и не только советскому, но и дореволюционному, как к силе, ему и его сословию враждебной».
С этим и связана такая острая у Шукшина потребность осуществить дело жизни — снять фильм о Степане Разине: «В сущности этот фильм и призван был стать шукшинским гамлетовским посланием власти, художественным свидетельством того, что сотворила она с народом и чем и кем может народ ей ответить».
Умная власть почуяла здесь опасность. «Что, русский бунт хочешь показать? Не дадим, не надейся!» — заметил Шукшину тогдашний куратор кино от правительства (и в общем-то покровитель писателя) В. Баскаков. Кроме него, у фильма была масса влиятельнейших противников, почитай что весь тогдашний советский киношный синедрион: Т. Лиознова, Ст. Ростоцкий, М. Донской, Л. Кулиджанов, С. Герасимов. Главное обвинение их: слишком жестокими показаны Разин и его сторонники. Какая-то пьяная лихая голытьба (что, в целом, соответствовало исторической правде). Здесь Шукшин и впрямь вступает в заочный спор с Пушкиным, с его концепцией исторического прогресса в «Капитанской дочке». Без крови ничего, типа, нового и более справедливого, Александр Сергеевич, не получится.
Воспринимать жизнь как острый конфликт было в крови Шукшина, и тьма низких истин, собственный опыт его в этом поддерживали. Чего только стоит такое его признание: «Я про своих родных и думать-то, и рассказывать боюсь: дядя из тюрьмы не вылезает, брат — двоюродный — рецидивист в строгом смысле этого слова, другой — допился, развёлся с женой, поделил и дом, свою половину он пропил, теперь — или петля, или тюрьма». А его распря с земляками после фильма «Печки-лавочки», когда Шукшина обвинили в том, что не увидел он благостной картинки новой жизни в родных Сростках?
Вот уж точно: один в поле воин…
Стать для столичной либеральной богемы салонным колхозничком в фирменных кирзачах Шукшин, ясное дело, не пожелал. Жизненная его стратегия была по-крестьянски хитрее: «…особенность творческого поведения Василия Макаровича Шукшина заключалась в том, что с обеими могучими советскими силами, попиравшими растущее национальное самосознание, — партийной и либеральной — он в той или иной степени вступал во взаимодействие, умел их собою заинтересовать, заинтриговать, обаять, разоружить, растрогать, под себя приспособить и оседлать…»
Но и божком «деревенщиков», со всеми их мухами в супе и голове заделаться он тоже не захотел. Отсюда и его способность (которая казалась двурушничеством многим запойным представителям литературных партий) сотрудничать и с либеральным «Новым миром», и с почвенническим «Нашим современником», и со скрыто сталинистским в 1960-е гг. «Октябрём».
Так каков же он был на самом деле, Василий Шукшин? «Хороший писатель, но темный человек» (В. Аксенов)? Некоторую неуловимость его облика отразил и вечный (вечно почему-то муссируемый) «еврейский вопрос». Известно, что прозаик и сценарист Фридрих Горенштейн как-то истошно ненавидел Шукшина: «В нём худшие черты алтайского провинциала, привезённые с собой и сохранённые, сочетались с худшими чертами московского интеллигента, которым он был обучен своими приёмными отцами. (…) В нём было природное бескультурье и ненависть к культуре вообще, мужичья, сибирская хитрость (Григория) Распутина, патологическая ненависть провинциала ко всему, на себя не похожему, что закономерно вело его к предельному… необычному юдофобству».
Он же забил и последний гвоздь в гроб писателя, (завистливо?..) описывая его многолюдные похороны: «Так нищие духом проводили в последний путь своего беспутного пророка».
Но этот самый смертельно опасный на Руси грех — грех юдофобства — так ли уж был свойствен «Макарычу»? Факты говорят как раз об обратном. Ни в его переписке, ни в произведениях антисемитских пассажей (вроде тех, что позволял себе Василий Белов) мы не встретим. Не забудем, что покровительствовали Шукшину в «Новом мире» Ася Берзер (которой в благодарность Шукшин привёз из Парижа великую тогда невидаль — фломастеры) и Ефим Дорош. А вот Александр Трифонович Твардовский, свой коренник-мужик чисто из деревенских, отнёсся к нему довольно прохладно — и ни разу не упомянул Шукшина в своих дневниках!..
Алексей Варламов разрушает и наше расхожее представление о шукшинских героях как о неких «чудиках», а о нём самом — как всё же о «деревенщике» со всеми особенностями этого литературного направления. И здесь уклончиво-упрямый Шукшин в канон не вписался! Варламов напоминает: в конце жизни Шукшин приметно искал новый художественный метод и дрейфовал… в сторону постмодернизма (его предисловие к сборнику рассказов Евгения Попова, повесть-сказка «До третьих петухов»). Проживи Шукшин дольше — каким бы он стал неожиданным писателем…
Ну, и под занавес — немножко не всеми любимой, но всегда ходкой на рынке конспирологии. Варламов довольно подробно разбирает версию о том, что Шукшина… устранили. Опирается он на свидетельства оператора поздних шукшинских фильмов Анатолия Заболоцкого, близкого друга писателя, актёра Георгия Буркова и некоторых других — впрочем, оставляя вопрос открытым. В конце концов, Шукшин здесь лишь повторяет судьбу других легендарных личностей, не слишком удобных власти — Есенина, Маяковского. Такова, видать, участь каждого любимца всегда недовольного и всегда подозрительного народа: хочется, вишь, чтоб герой пал в борьбе, а не от банального нездоровья…
В целом Алексея Варламова — да и нас — можно поздравить с удачной книгой. Шукшин жил, Шукшин жив, Шукшин будет жить! И, может быть, стоит помнить его призыв: «Не теперь, нет. Важно прорваться в будущую Россию».



